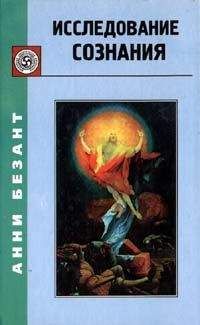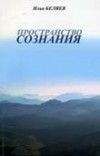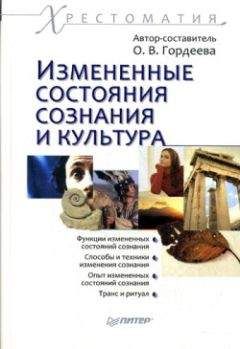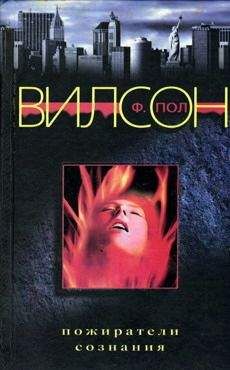А. И. Клибанов - Духовная культура средневековой Руси
Здесь, однако, требуется оговорка. Неслучайно время средневековой святости, «русского евангелизма» было и временем, ознаменованным религиозным вольномыслием и еретическими движениями. Они не только спонтанный продукт развития городской культуры. Их спровоцировала к активным действиям, к непримиримости, к борьбе и сама церковь, разумеется, не та, что выступала как «русский евангелизм», а та, что преследовала и его, и, тем более, ереси, все больше погрязая в пороках, бездуховности, корыстолюбии, все беспощадней эксплуатируя доверие и материальные средства верующих. Нет, не в Византию, а в Московское царство, не в константинопольскую Софию, а в современную церковь ведет художественный вымысел русского публициста первой половины XVI в. И. С. Пересветова: «О предивное чюдо, о великое Божие милосердие! В 21 день месяца майя, грех ради наших, бысть знамение страшно во граде. Нощи убо против пятка осветися весь град, видев же стражие градцкия течаху видети бывшее чюдо, чааху бо: турки зажгоша град; и возкричаша велиим гласом, и собрашася многие люди. Видев же у великие церкви Премудрости Божии у верха из окон пламень огненный великий изшедши и окружившу всю шею церковную на долгий час, и собрався пламень во едино место пременися, и бысть яко свет неизреченный, и абие взятся на небо… свету же оному до небес достиппу, отверзошася двери небесныя, и, прият свет, и паки затворишася небеса»[249].
Урок, преподанный древнерусской святостью святыми и юродивыми учениями еретических движений XIV — первой половины XVI в., утверждал в сознании верующих, что Святой Дух может действовать в человеке, даже в самом простом человеке. Он был усвоен, что и будет предметом нашего изложения в очерке «Самоценность человека».
Очерк третий САМОЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
§ 1. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
Невозможно переоценить значение истории человека как личности в развитии общества. Это поистине «нить Ариадны», разматывая которую исследователь прослеживает путь человека по всем сложнейшим лабиринтам прошлого. Человек всегда был и остается личностью, продуктом истории и ее субъектом, изменяющимся в ходе истории и ее изменяющим.
Эта «нить Ариадны» на материале древнерусской литературы (XI‑XVII вв.) последовательно прослеживается Д. С. Лихачевым в книге «Человек в литературе Древней Руси» (М., 1970) и в его других трудах, посвященных древнерусской литературе, ее истории, поэтике, текстологии. На материале учительной литературы эта же нить прослеживается В. П. Адриановой–Пе- ретц. То же самое можно сказать о работах других историков древнерусской литературы — Н. К. Гудзия, А. С. Демина, JI. А. Дмитриева, А. С. Елеонской, И. П. Еремина, А. С. Орлова, А. Н. Робинсона. Пафосом этих работ, каковы бы конкретно ни были их аспекты и источниковая база, является «человек» в литературе и общественной мысли Древней Руси. Этим же пафосом проникнуты труды исследователей древнерусского изобразительного искусства и зодчества — М. В. Алпатова, Г. К. Вагнера, Η. Н. Воронина, Н. А. Деминой, В. Н. Лазарева. Трудами исследователей воссоздается постепенный и противоречивый процесс нарастания в памятниках духовной культуры Древней Руси личностного начала. Но процесс этот, запечатленный в литературе, иконописи, зодчестве, представлен в них имплицитно, иначе мы имели бы дело не с художественным наследием, а с историей русской общественной мысли.
Для эпохи средних веков характерна синкретичность духовной культуры, протяженная во времени дифференциация ее состава, многозначность ее функций, что соотнесено с самим характером средневекового культурно–исторического процесса. Это, в частности, убедительно показано в статье Б. В. Рау- шенбаха «Иконография как средство передачи философских представлений»[250]. Но тем самым размежевание сфер духовной культуры, в свою очередь происходящее процессуально, составляет знаменательное явление в ее развитии, нарушая целостность собственно средневековой культуры, предвещая перемены радикального характера. Обратимся к глубокому обобщению Д. С. Лихачева: «В системе средневекового феодального мировоззрения не было места для личности человека самого по себе. Человек был по преимуществу частью иерархического устройства общества и мира. Ценность человеческой личности осознавалась слабо. В какой‑то мере она, конечно, осознавалась, но тоща на задний план отступала сама система. Сама человеческая личность, ее индивидуальность разрушала литературный этикет, монументальность стиля, подчиненность целому, церемониальность литературы и т. д. Непосредственное сочувствие человеку, простое сострадание ему, сопереживание с ним автора оказывались самыми сильными революционными началами в литературе. Мир, который в основном рассматривался в традиционной части литературы с заоблачной высоты и в масштабах всемирной истории, вдруг представал перед читателем в страданиях одного человека»[251].
Проблема самоценности человека и есть не что иное, как проблема «личности человека самого по себе». Обобщающая характеристика противостояния личностного начала началу авторитарному, предложенная Д. С. Лихачевым, сделана им на материале истории древнерусской литературы, но ее значение простирается на всю духовную культуру этой эпохи, отчасти и в силу синкретичности культурных явлений средневекового мира, на что мы обращали внимание. Заметим, что ученый пишет о «системе средневекового феодального мировоззрения», таким образом и сам выводя свою характеристику за пределы литературных явлений. В каких формах осуществлялось становление «личности человека самого по себе» в «системе средневекового феодального мировоззрения» и каково содержательное определение «личности человека самого по себе»? Между приведенной выше характеристикой противостояния (и противоборства) личностного и авторитарного начал в системе феодального мировоззрения, содержащейся в труде Д. С. Лихачева, вышедшем в свет в 1979 г., и главой «Открытие ценности человеческой личности в демократической литературе XVII века» в его книге «Человек в литературе Древней Руси», первое издание которой имело место в 1958 г., а второе — в 1970 г., есть преемственная связь. Ученый выступает с цельной последовательно проводимой концепцией. В названной главе читаем следующее: «Человеческая личность эмансипировалась в России не в одеждах конквистадоров и богатых авантюристов, не в пышных признаниях артистического дара художников эпохи Возрождения, а в «гуньке кабацкой», на последней ступени падения, в поисках смерти как освобождения от всех страданий. И это было великим предвозвестием гуманистического характера русской литературы XIX в. с ее темой ценности маленького человека, с ее сочувствием каждому, кто страдает и кто не нашел своего настоящего места в жизни»[252].
Здесь указаны глубинные исторические корни той литературы XIX в., которая провозгласила знаменитое: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость», как и последующее: «Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Находка счастливая, добытая любовным трудом исследователя на родной ниве истории русской литературы. Примечательно, что сам Φ. М. Достоевский сослался на источник своей мысли: «по народной правде и народному разуму». Но столь же известные слова позднейшего русского писателя: «Человек — это звучит гордо!» — также имеют корни в «народной правде и народном разуме». Если согласиться с оценкой культуры эпохи Возрождения, которой противопоставлена эмансипация человеческой личности в России, то следовало бы почесть за большую историческую удачу, что русское Предвозрождение не перешло в Возрождение. Конечно, исследователь далек от такой мысли, а оценка Возрождения в данном конкретном примере имеет в виду не его «героический энтузиазм» (Джордано Бруно), а то, что А. Ф. Лосев в труде «Эстетика Возрождения» назвал «обратной стороной титанизма»[253]. Но «обратная сторона» без «лицевой (не личинной!) стороны» — фикция.
Содержательной характеристике русского Предвозрождения посвящена статья Г. М. Прохорова «Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы», открывающая том Трудов отдела древнерусской литературы «Куликовская битва и подъем национального самосознания»[254]. Автор опирается на исследование Д. С. Лихачева, выдвинувшего концепцию Предвозрождения как явления, составляющего эпоху русского культурного развития, начинающуюся с XIV в. Он отправляется от трагического обрыва в истории Византии — ее падения в результате турецкого завоевания. Предсмертный вздох византийской культуры — исихазм, по мнению автора, был ее животворным духом, «последним творческим синтезом ее традиционной культуры[255], послужившим импульсом к «оживлению» православия по всей Восточной Европе. Это «оживление» действенно сказалось в духовной жизни русского общества. Русь ко времени падения Византии «едва–едва забыла свое языческое родо–племенное прошлое»[256]. Ордынское иго (мусульманское с начала XIV в.) вызывало нараставшее сопротивление, приведшее в 1380 г. к победе на Куликовом поле. Сопротивление требовало идеологической мотивировки и санкции, формированию которых особенно благоприятствовало, по мнению Г. М. Прохорова, усвоение византийского православного синтеза. «Мы знаем, что ей (Руси. — А. К.) предстояло стать «Святой Русью». Но ведь у нее были тоща и другие возможности, как и в момент «выбора вер» в X в.«[257] Далее исследователь стремится обосновать свой основной тезис, усматривая в исихазме восточноевропейский, прежде всего русский, эквивалент западноевропейскому гуманизму: рационалистическому гуманизму противопоставляется созерцательный мистицизм, однако тот и другой квалифицируются исследователем как «индивидуалистические течения»[258], образующие тем самым одно и то же предметное поле. Предвозрождение обретает позитивное определение в качестве «Православного возрождения»[259]. Православное возрождение выступает как восточноевропейский вариант Возрождения, специфика которого обусловливается всеми особенностями исторического развития России и ее культуры.